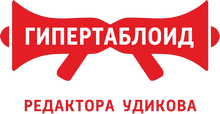Представьте — вы студент второго курса не самого известного московского вуза. При этом у вас уже большой журналистский опыт, тяга к необычным темам и удивительные усидчивость и работоспособность — в том случае, если «зацепило». Вас вызывают в деканат и говорят — предлагаем тебе написать книгу по архивам КГБ ко дню Победы. Платим 2000$, выберешь себе двоих помощников, на время подготовки книги у тебя свободное посещение занятий, экзамены и зачеты сдашь автоматом. Вы бы отказались? Думаю, нет. Вот и я не отказался. Кончилось всё это для меня плохо, но это уже совсем другая история.
С материалами я работал в здании УФСБ по Москве и МО на Большой Лубянке. Там в коридорах тогда был полный совок, на стенах всюду висели фотографии Дзержинского. Это там, снаружи, он уже не в почёте. Мне выделили отдельный кабинет с отличным видом, дали все необходимое и 9 томов уголовного дела. Десятый не дали — он до сих пор засекречен. Но обещали дать из него выдержки, не содержащие фамилий — если потребуется. Помню первый день — я дрожащими руками открываю первый том дела с материалами на украинского коллаборациониста. Открываю, и тону в них. В моих руках вся жизнь человека — документы, фотографии, визитки, письма, записки — всё. Он занимал к моменту ареста немаленькую должность — зам. главного редактора издательства Аэрофлота. Писал стихи и рассказы на военную тему — он был талантлив и образован. Ну — думаю — кровавая гебня, такого человека сгубили. А потом я стал читать. Приходил рано, уходил поздно, забывал про еду, да и денег даже на дешевые обеды здесь у меня всё равно не было. Кроме того, меня просили не ходить без необходимости по этому зданию, содержащему массу тайн. Мне приносили чай, печешки, бутерброды. Забавно — проходная здесь напоминала проходную какого-нибудь советского завода — те же женщины с «химией», и лишь иногда я ловил на себе железные взгляды «людей, не выделяющихся из толпы» — в коридорах Лубянки я научился их отличать и выделять.
Я практически ни с кем не контактировал — меня даже попросили выключать в здании мобильный, но с пресс-службой ФСБ я общался довольно много и часто. Такие же журналисты — интересные разносторонние люди, но со специфическим образованием, а иногда и с опытом оперативной работы. Здесь я, конечно, узнал многое о нашей современной истории. Знать это полезно для понимания ситуации, но эту информацию я никогда не опубликую. Как-то я попросил дать мне образы — книга была художественной, но на основе реальных фактов. Мне обещали генерала, но привели полковника. Сейчас он на пенсии, но полон сил и энергии. Бравый такой гусар. Из него был выведен образ оперативника Малинина — именно на его имя отправлено чистосердечное признание предателя. Был там ещё КГБ — Константинов Геннадий Борисович, бывший сотрудник «Смерша», который располагался как раз в здании моего университета. Полковник меня поразил. Приведу несколько его высказываний. «Идешь, бывает, по улице и думаешь — что бы хорошего людям сделать». Да, так было воспитано поколение наших родителей — и я ни капли не усомнился в искренности этого ветерана КГБ, несмотря на специфику его работы. А потом он поразил ещё больше — «Было время, когда мы следили за фарцовщиками и спекулянтами. Среди вещдоков бывали порно-записи. Никто в стране их ещё не видел, а мы уже смотрели!». Да, наверное именно тогда, когда партийные лидеры устали бояться воровать, а товарищи Малинины увлеклись порнографией, и начал «сыпаться» Советской Союз…
Я выкладываю уникальные исторические материалы. Права на их публикацию у меня нет. Но официально я с этими материалами «как бы» не работал, этих девяти томов не видел, утечек из наших органов не бывает, книга и фильм со мной никак не связаны. Так что будем считать текст ниже плодом моей фантазии. Здесь немало вранья — автор этих признаний спасал свою жизнь. А саму эту не вполне честную исповедь я по кусочкам собрал из собственноручных показаний фашистского пособника убившего не менее 20 человек, пытавшего сотни советских граждан и погубившего не один партизанский отряд. Тут дана лишь часть (без изменений — я принципиально не вносил своего). Оказывается, автору признаний даже статья в Википедии теперь посвящена >>>, причем вранья там больше половины. Но нет у меня вопросов к органам, они есть лишь к моему бывшему преподу, внуку «того самого» непотопляемого академика Поспелова. Ну да ладно — дело это прошлое.
Чистосердечные признания под катом, а вот фильм, снятый по материалам написанной мной и ребятами книги. Там всё переврали в духе пропаганды, отрезок, где Юхновский «убедительно» бредит, я сам придумал, и никогда его не звали «Лютым» — это прозвище придумал Саша, мой напарник. В фильме даже есть цитаты написанного им текста. Т.е. «документальный» фильм из серии «Следствие вели» Леонида Каневского снят по художественной книге, а не по фактам, причем с ужасными искажениями, что, конечно, печально. Итак, текст признания:

Фото из уголовного дела, найдено на сайте Istpravda.ru
«В управление КГБ по г. Москве и Московской области
Тов. Малинину Алексею СергеевичуРешив чистосердечно признаться в своих вынужденных проступках и по мере возможности вспомнить о моей незавидной роли и преступной деятельности ГФП,
на заданные мне вопросы прошу разрешить мне дать собственноручные показания.А.Ю.Мироненко
Подпись. Москва, 1975 год
Мне давно хотелось откровенно поделиться своими переживаниями и мыслями, рассказать о нелёгком жизненном пути. Не только привести факты из биографии, но и разобраться в самом себе, в постигшей трагедии.
Но с кем поделиться? С малых лет я был одиноким, замкнутым. Мне пришлось пробираться по дороге жизни с трудом, блуждать и впадать в отчаяние, а спросить, как пройти, было некого.
Обращаюсь в органы безопасности не от страха, а от души. С расстояния нескольких десятков лет считаю нужным оглянуться назад, беспристрастно и честно взглянуть на свою молодость, прожитую жизнь, раскрыть истоки случившегося. Пожалуй, незачем говорить, что сейчас моё мировоззрение, сознание, взгляды на жизненный опыт и внутренние убеждения совершенно другие. Я давно и бесповоротно осудил прошлое, которое осталось смутным кошмаром, проклятием, являвшееся все эти годы страшной моральной каторгой.
Боль за вчерашнее – боль сегодняшняя. Я пишу, не оправдываясь, а чтобы показать, как было в действительности. Всего не вспомнишь, не восстановишь, но я прошу прочитать эти откровенные строки.
С позиций взрослого человека иной раз трудно оценить поступки молодого. Трудно это сделать даже самому. Ведь осознаёшь и переоцениваешь поступки не по установленным канонам, не по тому, что должен был делать, а по тому, что ты преднамеренно или по стечению обстоятельств делал, что тебя втянуло в ту или иную колею, короче, по жизненному опыту.
С малых лет жизнь меня не баловала. Семья жила в каком-то страхе. Родственники отца проживали в Западной Украине, находившейся, как тогда говорили, под панской Польшей. Мать была дочерью священника. Всё это грозило неприятностью. Развод отца с матерью, бесконечные переезды в первые годы моей школьной учёбы, ссоры из-за детей болезненно отражались на душе. При своём малообщительном, несмелом характере я испытывал такое же чувство, как заблудившийся в лесу человек. Всё это порождало отчуждённость, замкнутость, не давало возможности общения с людьми, которые поддержали бы советом, явились осмотрительными наставниками юноши, вступавшего в жизнь.
Проживал я с отцом – Юхновским Иваном Юрьевичем, по образованию агрономом, и мачехой – Мироненко Анной Денисовной в с. Процовка, учился в г. Ромны. В том же городе оказались и родители матери, с которыми отец остался в хороших отношениях. Дедушка – Новосадский Иван Викторович, священник, был человеком начитанным, почитателем старославянской культуры, знал историю и литературу, особенно украинскую. Бабушка, владевшая языками, привила и мне к ним интерес и любовь. С детства я пристрастился к чтению, сам писал стихи, а всё воспитание проходило в обстановке романтизации прошлого Украины. Будущее казалось безоблачным, хотя чувствовалась какая-то тревога. Ползли какие-то слухи.
Внезапно разразилась война. Через город проходили разбитые части, началась бомбардировка. Перед отступлением на полях сжигался хлеб, взрывались склады. Вокруг царили паника и страх. Отец, как и другие, был призван в народное ополчение. Однако немцы вернули всех домой, заняли город. Мне исполнилось тогда 15 лет, пошёл 16 год.
В городе – разруха, предприятия не работали, учёба в школе прекратилась.
После прихода немцев усилилась националистическая пропаганда, которую проводили оккупанты и местные «самостийники». Издавались газеты, брошюры, образовался литературный кружок и т.д.
Многое из того, что внезапно обрушилось и что я лишь потом понял, осмыслил, тогда ещё не понимал. И жизнь, и события, и оценка происходившего воспринимались по-другому.
Непредвиденным по своим последствиям и пагубным было, конечно, решение отца (мог ли я ослушаться его в то тревожное время и в том возрасте?) устроить меня в бюро переводчиков при полиции г. Ромны, где сам работал заместителем начальника. Открытием для меня явилось и то, что в прошлом он был офицером петлюровской армии.
Сейчас я понимаю, что несправедливо было бы приписывать тогдашнему подростку сложные мысли, злые намерения, затаённую злобу. Мои поступки, покорность диктовались лишь теми, с кем сталкивался, кому приходилось верить, как старшим по возрасту и опыту жизни.
Да и рассуждал наивно, по-мальчишески. Работа переводчика казалась безобидной, нужной для невольного установления языкового контакта. Раз уж случилось так, что пришли оккупанты, что надо, используя свои небольшие познания, помогать своим же людям, землякам.
Забегая вперёд, следует заметить, что у нас в доме скрывались евреи, приходили и уходили какие-то люди. В частности, помню Софию Барулю, дочь сослуживца отца по «Заготзерно». Снабженная отцом документами, она отбыла в направлении Киева. Может быть, это случайность, может – преднамеренность. Но это почему-то запомнилось.
Тем временем, произошло несколько случаев, сыгравших в моей судьбе зловещую, роковую роль. Отец за перестрелку и якобы попытку покушения на офицера комендатуры был заключен в тюрьму, где я его несколько раз навещал. Благодаря ходатайству Земрау, немца, преподававшего в нашей школе немецкий язык, и его сыну, переводчику комендатуры, отец был затем освобождён без права оставаться в полиции.
Итак, отец оставался без работы, другие члены семьи маленькие. Жили за счёт мачехи. Продававшей вещи, редиску и картофель со своего огорода. Один я в бюро получал какие-то деньги и этим помогал семье. Может быть, это мне в то время и льстило.
Работа моя, как переводчика и вправду, сводилась первоначально к технической помощи более опытным сотрудникам бюро – переписке и оформлению документов через комендатуру. По существу – молодой курьер. Но всё же, не пощадив мой возраст, меня дважды вместе со всем мужским составом полиции привлекали к чудовищным зрелищам: к оцеплению площади при повешении партизан и конвоированию евреев за город. Сам я, конечно, никого не убивал и ни в чём не пособлял, а оказался невольным свидетелем расправы карателей.
В апреле 1942 года в переводческом бюро появилось два немецких военно служащих: один в звании капитана, второй – сержант, хорошо говоривший по-украински. Как затем выяснилось, это были фельдполицайкомиссар Кернер и переводчик Блискун. Им понадобился человек, немного знающий немецкий язык, который на месяц смог бы заменить отсутствующего переводчика. Поскольку в бюро работали одни старики и женщины, выбор пал на меня. Офицер обратился ко мне, осведомился о возрасте, спросил, не было ли среди родственников евреев, где учил язык и т.п. Выслушав ответы, он в тоне приказа сказал, что я на месяц отзываюсь в немецкую часть, чтобы заменить убывшего в отпуск переводчика. Отговорки в расчёт приняты не были.
На следующий день переводчик зашёл за мной и отвёл в бывшее здание райвоенкомата, где размещалась часть. Это была, как я позже узнал, группа тайной полевой полиции – ГФП-721, немецкий карательный орган. Мне предложили написать автобиографию и взяли подписку, предупредив, что за разглашение служебной тайны или попытку скрыться, я буду наказан по законам военного времени.
Около месяца я ходил в гражданской форме, жил дома. Постепенно, кроме устного перевода, бумаг, приема посетителей меня стали привлекать к допросам. Вначале помогал переводчик Блискун, затем я был переведён к следователю унтер-офицеру Фрицу Каргелю и его помощнику ефрейтору Ашерлю, владевшему немного чешским языком.
В отсутствие следователя в комнату как-то вошёл фельдполицайкомиссар Мюллер. Поскольку я стоял рядом с арестованным, он с криком и чуть не с кулаками обрушился на меня, приняв за допрашиваемого. Этот случай обосновал выдачу мне формы, правда, без погон и нашивок.
В мае 1942 года при ГФП-721 из числа молодых советских граждан, в том числе и военнопленных, начал формироваться отряд добровольцев – «хильфсвиллиге» или сокращенно — «хиви». Все они вначале тоже были одеты в немецкую форму без погон и вооружены карабинами. В обязанность «хиви» вменялась доставка арестованных на допрос, конвоирование и охрана заключённых, участие в облавах и карательных операциях.
Всё это я узнал позже. Тогда же меня опять вызвали к начальству. Разговор был о моём будущем. Мне сказали о том, что немецкие войска заняли Украину и быстро продвигаются вперёд. К старому возврата нет – у большевиков меня ждёт пуля. Случай с отцом был улажен.
Тебе скоро исполнится 17 лет. Ты работаешь у нас хотя и мало, но оставаться здесь нельзя. Не отпустим. Унывать нечего: служат же другие твои земляки – переводчики, добровольцы. Будешь изучать язык, затем продолжать учиться. Было сказано о «национальном единстве», «новом порядке», не обошлось без намека на строгость военного времени. Лучше, дескать, всё пусть останется по-хорошему.
Что мне следовало предпринять? Приказали молчать. С кем посоветоваться? Как я мог и должен быть поступить? Круг замкнулся. Даже крепкая натура, не столь наивная, слабая, как тогда я, порой, утрачивает силу воли, черты индивидуальности.
В трагической обстановке 1941 года под угар «нового времени» я попал, не успев разобраться в сущности оккупантов и их приверженцев, разглагольствовавших о собственной администрации, «возрождении» и т.п. Военнопленных из занятых областей отпускали по домам, коммунистов поставили на учёт. Учителя, не говоря о немцах, отце и сыне Земрау, работали переводчиками, служили в комендатуре, бургомистрате. Так, в переводческом бюро мне помогала старая седая учительница, фамилию которой не помню. На сцене местного театра выступал известный артист Шурат. Появились поэты Ржевский, Пархомович, Святелик.
Когда я почувствовал неладное, увидел оскал фашизма, то уже находился в ловушке. Приходилось всех бояться. Неприятное чувство усилилось, когда я увидел подъезжавших в группу секретарей Рунцгаймера, Болллова, наиболее жестоких, высокомерных, несдержанных, которых боялись сами немцы. Мне, к счастью в несчастьи, как говорится, не приходилось с ними близко сталкиваться.
В Ромнах, работая со следователем Каргелем, я вскоре увидел, что допрашиваемых избивают, применяя резиновые дубинки. Узнал, что ГФП – организация жестокая, наделённая неограниченными правами по отношению к своим жертвам, что здесь царят круговая порука и слежка, суровая дисциплина. В Ромнах мне пришлось участвовать в допросах задержанных Вознесенского, Коцура, Качана и других. Подозреваемых сильно избивали. Я старался не смотреть арестованным в глаза, они были старше меня. Тут надо было сосредоточиться, переводить, передать поточнее вопросы и ответы. Поэтому и действовал как передаточный механизм, куда уж при этом запомнить фамилии, лица, обстоятельства.
По натуре я не был озорным, забиякой. Я считал, что мерзко бить человека, который не может ответить тем же, защищаться. Немцы оправдывали себя так: это же преступники, не солдаты, принимающие открытый бой. Партизаны – говоришь? Это бандиты, стреляющие из-за угла, нарушающие покой населения. Разве они не знают, что идёт война, что нельзя поднимать оружие? То же писали и газеты.
А свои соотечественники, старшие? Они как поступают? Ещё хуже, жёстче. А ты, что можешь ты в такое время? Не подчиниться, протестовать и самому стать жертвой?
Я ничего здесь не выдумываю, не оправдываю и не приуменьшаю, а лишь пытаюсь восстановить восприятия через призму тогдашнего юноши.
Когда комиссар Кернер с группой уезжал В Путивль, он взял меня с собой в качестве переводчика. В Путивле эта группа была одновременно выездной командой ГФП и местной комендатурой. Задачей нашей группы была борьба с партизанами, предотвращение саботажа, обеспечение работы сельхозкомендатуры, а так же соответствующая связь с полицией, бургомистрантом, венгерской частью, идеологическая пропаганда.
В конце лета 1942 года в Путивле была проведена карательная операция, которую возглавлял комиссар Кернер. Тогда было доставлено из тюрьмы и расстреляно более 30 человек. К этой операции я впервые был привлечён комиссаром Кернером, но лишь находился вблизи места казни и участия в ней не принимал. В других проводившихся здесь операциях я не участвовал, хотя здесь они происходили. Мне известно, что комиссар Кернер возглавлял так же облаву, которую осуществляли венгерские солдаты совместно с полицейскими и сотрудниками ГФП, и которая проводилась по линии комендатуры.
До прибытия комендатуры в Путивле находилась одна лишь венгерская часть. С полицией и бургомистрами она связи не поддерживала, производила аресты, солдаты занимались торговлей, выменивали продукты за табак, сигареты, а то и просто мародерствовали, грабили население. Через венгерского военнослужащего, знавшего словацкий язык, удалось установить языковой контакт. Начальник роты пропаганды договорился о демонстрации для солдат кинофильмов, наладил работу местного кинотеатра, редакции газеты, которую снабжал материалами. В здешней газете был напечатан мой перевод немецкой песни.
Поскольку многие немцы из роты пропаганды не отличались грамотностью, то мне часто приходилось переводить различные прошения, а также объявления в газету и т.п.
Используя мою слепоту, меня вовлекли в литературный кружок при редакции газеты «Возрождение», здесь были Константин Святелик, Леонид Пархомович, Ржевский и другие, значительно старше меня.
Моё юношеское творчество продолжалось и в Донецке. В основном переводы, практика для последующей учёбы, которые печатались в журнале «На досуге» и газете «Голос». Редактором был западноукраинский поэт Богдан Кравцев, как мне известно, автор сборника «Сонеты и строфы». В этих берлинских печатных органах, предназначенных для находившихся в Германии рабочих и жителей оккупированной Украины, сотрудничали Аркадий Любченко, доверенный украинский писатель, Леонид Пархомович, Юрий Косарик.
Из Путивля, как и предусматривалось, домой меня не отпустили. В конце 1942 года группа получила приказ постепенно продвигаться в направлении Сталинграда. Команда Кернера следовала через Богодухов, Харьков и другие города, пока не прибыла в Белую Калитву, где остановился штаб. Отсюда, это было уже зимой, выездные команды отправились в Ростов-на-Дону, Глубокий, Миллерово. Я оказался у фельдфебеля Лёбаха и работал с тем же унтер-офицером Каргелем.
Здесь личный состав получил зимнее обмундирование, оружие и был перераспределён по командам. Я тоже получил форму, личное оружие (трофейный польский пистолет), т.е. полное солдатское снаряжение.
Примерно через неделю или две после укомплектования команда убыла на прежнее место назначения – посёлок Глубокий Ростовской области, где пробыла до февраля 1943 года.
Всего в Глубоком было допрошено около 50 человек, задержанных полицией и комендатурой при облавах или доносах старост. Они обвинялись в подпольной деятельности, антигитлеровской пропаганде, попытке перехода через линию фронта. Были так же перебежчики и военнопленные.
Среди арестованных находились подпольщицы — комсомольский «функционер» Литвинова, депутат районного или сельского совета Заткина, группа молодёжи из какой-то деревни (Кузьменко, Гусев и др.), обвинявшиеся в попытке захвата оружия, о чём доносили староста и полиция, юноша Суров, подозревавшийся в слежке за комендатурой, и другие, фамилий которых я не помню.
Допросы вели следователь Каргель, Энгельгардт, их помощник Шктумпф. Они избивали задержанных резиновой дубинкой, пинками, кулаком.
Судьбу задержанных рещал начальник команды Лёбах. Массовые казни , насколько я знаю, здесь не проводились. Обычно Лёбах возглавлял расстрелы лично, привлекая к этому добровольцев, казаков из полиции и немецких жандармов из комендатуры.
После освобождения Морозовской и Миллерово началось отступление, и группа в начале 1943 года сосредоточилась в Сталино (ныне — Донецк), где находилась до осени.
Когда состав прибыл в Сталино, мне было только 17 лет. Здесь, после разгрома армии Паулюса, многим были вручены награды. Как самому молодому переводчику мне по представлению комиссара Кернера была выдана «бронзовая медаль», самая меньшая награда для «восточников», т.е. не немцев.
Я уже не помню, как она точно называлась. И была она для меня неожиданностью. Понимаю, что Кернер относился ко мне неплохо. Вообще, он обращался со всеми проще, не считался таким беспощадным, как другие офицеры. Особенно симпатизировал он молодым, возможно, только потому, что у самого был сын, о котором он часто вспоминал.
Понимаю сейчас, почему меня держали при штабе, не посылали на выезды. Дескать, подросток, поменьше видит, меньше поймёт и деваться ему некуда. Ведь за всеми не немцами всё-таки был какой-то присмотр. Их использовали, но не особенно любили и доверяли.
На многие вопросы жизни я ответил бы сейчас и поступил по-другому. А тогда? От окружающей жестокости меня спасала, видимо, молодость. Меня попросту рассматривали как орудие, владеющее языком. Да, я видел избиения, больше слышал, чем видел смерть людей. Всё списывалось на войну, мотивировалось военной необходимостью.
В Путивле я впервые в жизни увидел расправу над арестованными. Затем на глазах подростка более страшное зрелище повторилось в Сталино, когда проводилась операция у шахты Калиновки. Одно дело — переводить, другое – хотя бы наблюдателем присутствовать при казни. И ещё раз или два помню выезды на облаву и обыск.
Может быть, и трудно поверить, но я лично никого не избивал и не убивал. В этом совесть чиста. Не могла в моей душе тогда и позже уживаться жестокость, ненависть. Мне некому было мстить, слишком я был слабохарактерным и неопытным, одиноким, замкнутым. Вокруг моей небольшой жизни было много горя и трагедий, обмана и угроз, предупреждений, круговорот событий и безысходность.
Я не оправдываюсь здесь, не распространяюсь о том, что известно, о чём говорил. Я думаю о том, как всё получилось, как должен был поступать молодой, неокрепший человек в жизни, если перед ним то, что предвидели никакие книги, инструкции, даже законы…
В феврале 1943 года нам было объявлено, что отныне задача ГФП-721 будет состоять в обеспечении безопасности ближнего тыла недавно созданной армии Холлидта.
На допросы доставлялись подпольщики, партизаны, лица, заподозренные в подрыве вермахта, перебежчики, военнопленные и просто подозрительные лица.
В день допрашивалось по 2-3 человека. Использовались те же методы – запугивание, избиение.
Летом 1943 года, от всего уставший и морально и внутренне опустошённый, я отпросился в отпуск, чтобы повидаться в родными. В Ромнах отца не оказалось, я встретился только с мачехой Мироненко Анной Денисовной, затем, делать нечего, вернулся обратно. Надо было бежать из ГФП? Но куда? К кому? Сейчас всё кажется проще, а тогда…
В Сталино жил, как в тумане. Я понимал, что оказался в тупике, в одиночестве, поскольку я не дружил с другими, то и посоветоваться было не с кем. Остальные переводчики, постарше, жили своей жизнью, своими интересами, я же как-то оставался в стороне.
Летом по доносу было арестована «группа интеллигентов» — преподавателей и врачей. Допрашивали их разные переводчики – Каргель, Энгельгардт, Шпекхт. Из двух или трёх человек, которых допрашивал унтер-офицер Каргель, руководству группы удалось завербовать одного рыжего, высокого и худощавого мужчину, кажется Титова, который подсаживался в камеры для расспросов и приходил затем в ГФП. Этих «интеллигентов» как говорили немцы, на допросах особенно не избивали, чтобы не обозлить и попытаться, если не перевербовать, то воздействовать морально. Для этого пытались выведать через провокатора их убеждения и т.д. О судьбе этих заключённых и завербованных осведомителей я ничего определённого сказать не могу.
Была здесь задержана и молодёжная группа, по делу которой мне с комиссаром Кернером приходилось выезжать в Ручейниково. В доме проживающего здесь одного из заключённых якобы хранились флаг и листовки. Однако обыск никаких результатов не дал.
ГфП-721 стало известно, что вечером несколько партизан намеревались перейти шоссе и проникнуть в пригород. На облаву была снаряжена оперативная группа во главе с фельфебелем Митке, непосредственным начальником «хиви». Вслед за ней на легковых машинах выехали комиссар Кернер, унтер-офицеры Каргель, Вагнер, ефрейторы Штумпф, Елинек и Фрайтаг, а так же я. Из переводчиков в оперативной группе были, кажется, зондерфюрер Шунк и Потёмин, «хиви» Лурга и Сидоренко.
Легковые машины остановились у леска, а перестрелка велась в стороне, возле крайних домов. Когда вернулся Кернер, мы уехали в штаб. Чем закончилась сама эта операция, сказать не могу, так как ни я, ни упомянутые выше немцы, прибывшие на легковых машинах, в ней непосредственного участия не принимали.
В августе 1943 года допрашивались две разведчицы. Одну из них, Анохину, допрашивал унтер-офицер Каргель, его помощник Штумпф, у которого я был переводчиком. Следователи сильно её избивали, поскольку, несмотря на улики, она не давала показаний. Вторую – радистку Макарову допрашивал фельдфебель Энгельгардт и переводчик Блискун. Вначале разведчиц предполагалось перевербовать. Но опасались, что вокруг них создалась широкая огласка, и это привело бы к провалу. Были ли этим разведчицам сделаны руководством какие-либо предложения, я не могу утверждать. Замечу лишь, что вопросами вербовки занимались нен следователи, а начальники команд, фельдполицайкомиссары и секретари.
Однажды я был откомандирован в армейский обоз, находившийся в прифронтовой полосе в лесу. Здесь служили советские военнопленные, проявившие, по мнению командира – немецкого капитана, приезжавшего в ГФП-721, какие-то требования и недовольство. Для этого понадобился переводчик, который заодно узнал бы о моральном состоянии и настроении. Я пробыл там до появления отсутствовавшего переводчика. Все претензии были разрешены, никакого недовольства, если оно и было, добровольцы не проявляли.
Мне известно, что в Донецке специальные команды проводили «экзекуции» (казни). Кроме сотрудников ГФП-721 к ним привлекались так же служба безопасности («зихергайтединент») и «особая команда №408» ( «зондеркоммандо 408»).
В начале сентября 1943 года ГФП-721 перед отступлением из Донецка была проведена массовая «экзекуция» (расстрел) не менее 40 человек. По приказу фельдполицайкомиссара Майснера в этой операции приняли участие все сотрудники. Вместе с унтер-офицером Каргелем и ефрейтором Штумпфом я находился в оцеплении правого края шахты, над стволом которой расстреливались доставленные из тюрьмы заключённые.
Надо признаться, что в начале я не ожидал от немцев того, с чем столкнулся. Но внутренний ужас и чувство сострадания заглушались безысходностью, страхом, дисциплиной. Но чем больше немцы разглагольствовали о своём национальном превосходстве, тем больше укреплялось во мне чувство своей национальной принадлежности, интерес к славянам. Немцы отрицали враждебность к славянам (во всяком случае, меня так убеждали), ссылаясь на самостоятельность Болгарии, Словакии, Хорватии, но я чувствовал их враждебность к полякам, чехам, русским, да и украинцам. Постепенно раскрывалась суть расизма и фашизма, хотя я и был изолирован своими «наставниками». Поразило меня и то, что и среди «воедино сплочённых немцев» появились, как это имело место в Донецке, дезертиры, в отчаянии застрелился генерал Рекнагель. А советский народ проявлял непокорность и силу. Деятельность ГФП, хотя всего я не знал и не видел, превращалась в месть, рпасправу, беспощадное истребление.
Строгости ГФП были крайними: кто хранил оружие – наказывался смертью, кто был связан с партизанами, помогал им – подвергался казни. За путанное, иногда вынужденное самосохранением, показание – тоже смерть. Пропаганда, диверсия – всё беспощадно наказывалось. И всё мотивировалось войной. А ведь довести невольного человека до отчаяния, безразличия не так уж трудно. Видно, там, где нет аргументов, всегда выступает жестокость. Когда я пытался поговорить с «хиви», добровольцами, они то ли специально расхваливали немцев, то ли боялись.
Из Донецка группа выехала в Покровское, где после двух недель разбилась на команды. Снова я попал в команду Лёбаха, которая продвигалась через Снегирёвку, Апостолово, Берислва на Херсон. Пройдя через Волноваху, Херсон, Николаев, она вышла на западный берег Днестра и снова распались на выездные команды. К тому времени произошли изменения в личном составе и руководстве. Вместе комиссара Кернера прибыл Ешке, которого я мельком видел всего раза два.
В это время активные операции проводились а районе Никополя и Марганца. Здесь действовали крупные команды секретарей Дитмана, Кубиака, Боллова, фельдфебеля Шпехта и др. Подвижные оперативные группы с полицейскими и немецкими осрбыми командами проводили облавы и ожесточённые карательные операции.
Передвигалась команда на лошадях, неупорядоченно, в спешке. Переправу через Днестр из г.Бендеры (тогда Тигина) помимо немецких жандармов контролировали румыны.
Отныне я находился в команде, стоявшей в деревне Марьянка де Сус вблизи г. Каушаны, которую возглавлял фельдполицайсекретарь Брандт. Функции команды несколько изменились. Она занималаст сбором сведений о партизанах, опросом военнопленных и дезертиров. Местным населением формально занималась румынская военная полиция и «сигуранца» (охранка).
Брандт оторвался от подчиненных, все дни ездил к офицерам других частей, устраивал с ними попойки, другие немцы тоже были в смятении. Положение моё было отчаянное. Украина осталась позади, выяснилось, что немецкая армия не так сильна, как казалось. Оказавшись в чужой стороне, я всё больше начал задумываться над жизнью.
Не сразу наступило духовное прозрение, ощущение обмана и своего рабского положения. Находясь в душевном подполье, я не видел выхода, держался замкнуто, старался уйти в себя, занимаясь чтением, языками.
Трудно было вырваться из ГФП, рискованно оставаться на освобождённой территории. Кто будет разбираться во фронтовой обстановке? А жить хотелось. Самоубийство и смерть никого не прельщают, особенно в молодые годы.
Чтобы выйти из состояния безразличия и покорности, нужен был внешний толчок, который произошёл в Молдавии.
В начале августа 1944 года команда Брандта была вызвана в с. Тарутино, где находился штаб группы. Чувствовалась тревога – ожидалось наступление советских войск, и командам, получившим инструктаж, освободившимся от архивов и багажа, предстояло самостоятельно продвигаться в Румынию.
Начальник команды Брандт, предупредив, что ожидает меня у большевиков, выдал на всякий случай подложный документ. Текст гласил, что удостоверение выдано солдату Александру Мюллеру взамен потерянной солдатской книжки.
Опять это был обман, явное пренебрежение к личности. Я должен был сойти за немца. Зачем эта комедия, верный провал в случае плена? Меня выдал бы акцент, в Германии я не был и не смог бы сказать, где якобы проживал, кто родные и т.д. Короче говоря, не была даже подготовлена какая-либо версия. А ведь фамилия Мюллер – наиболее распространённая, типично немецкая.
Ждать было нечего. Что бы не случилось, всё же не среди чужих.
Когда команда покинула д.Заим, куда мы возвращались из с. Тарутино, я возле леса незаметно оторвался от унтер-офицера Каргеля и ефрейтора Штумпфа, отпустил верховую лошадь. Переждав, с наступлением темноты, вышел из убежища (овражка), вернулся в Заим к хозяйке Марии Яну, у которой квартировали. Я сказал ей, что бежал от немцев. На второй или третий день, когда советские войска прошли вперёд (в деревне они не появлялись); переодетый в гражданскую одежду, я ушёл в г. Каушаны, затем – в г. Бендеры на сборный пункт, где, как узнал, группируют беженцев для призыва или отправки в тыл.
Брандт оторвался от подчиненных, все дни ездил к офицерам других частей, устраивал с ними попойки, другие немцы тоже были в смятении. Положение моё было отчаянное. Украина осталась позади, выяснилось, что немецкая армия не так сильна, как казалось. Оказавшись в чужой стороне, я всё больше начал задумываться над жизнью.
Не сразу наступило духовное прозрение, ощущение обмана и своего рабского положения. Находясь в душевном подполье, я не видел выхода, держался замкнуто, старался уйти в себя, занимаясь чтением, языками.
Трудно было вырваться из ГФП, рискованно оставаться на освобождённой территории. Кто будет разбираться во фронтовой обстановке? А жить хотелось. Самоубийство и смерть никого не прельщают, особенно в молодые годы.
Чтобы выйти из состояния безразличия и покорности, нужен был внешний толчок, который произошёл в Молдавии.
В начале августа 1944 года команда Брандта была вызвана в с. Тарутино, где находился штаб группы. Чувствовалась тревога – ожидалось наступление советских войск, и командам, получившим инструктаж, освободившимся от архивов и багажа, предстояло самостоятельно продвигаться в Румынию.
Начальник команды Брандт, предупредив, что ожидает меня у большевиков, выдал на всякий случай подложный документ. Текст гласил, что удостоверение выдано солдату Александру Мюллеру взамен потерянной солдатской книжки.
Опять это был обман, явное пренебрежение к личности. Я должен был сойти за немца. Зачем эта комедия, верный провал в случае плена? Меня выдал бы акцент, в Германии я не был и не смог бы сказать, где якобы проживал, кто родные и т.д. Короче говоря, не была даже подготовлена какая-либо версия. А ведь фамилия Мюллер – наиболее распространённая, типично немецкая.
Ждать было нечего. Что бы не случилось, всё же не среди чужих.
Когда команда покинула д.Заим, куда мы возвращались из с. Тарутино, я возле леса незаметно оторвался от унтер-офицера Каргеля и ефрейтора Штумпфа, отпустил верховую лошадь. Переждав, с наступлением темноты, вышел из убежища (овражка), вернулся в Заим к хозяйке Марии Яну, у которой квартировали. Я сказал ей, что бежал от немцев. На второй или третий день, когда советские войска прошли вперёд (в деревне они не появлялись); переодетый в гражданскую одежду, я ушёл в г. Каушаны, затем – в г. Бендеры на сборный пункт, где, как узнал, группируют беженцев для призыва или отправки в тыл.
На сборном пункте в Бендерах меня случайно опознал житель д. Тернавка Китаев, который, помнится, пристал в феврале или марте к продвигавшейся команде Брандта, оказывал какие-то услуги и угощал сотрудников, в том числе и меня, в своём доме вином.
Некий лейтенант записал мою фамилию, год рождения, задал несколько вопросов. Присутствовавшие при этом другие военнослужащие обрушились с бранью и угрозами. Не продолжая допроса, лейтенант приказал закрыть меня в тёмной комнатушке под охраной молодого бригадмильца-молдованина.
Война продолжалась,и я опасался самосуда. Вечером я попросил у часового закурить и выйти потом по надобности. Из двора, воспользовавшись предоставившейся возможностью, инстинктивно бежал в город, на вокзал. С проходившим эшелоном, забитым солдатами и беженцами, добрался до ст. Раздельной.
Здесь оказался возле военкомата, где толпилось молодёжь моего возраста, без документов. Остался с ними и я. Чем куда-то бежать дальше, уж лучше погибнуть на фронте. Проснулась обида за себя; за отца, так зло поступившего со мной, и немцев, не хотелось вспоминать.
В этот момент меня вызвали на комиссию.
- Фамилия?
-
Мироненко, — выпалил я, почему-то вспомнив именно фамилию моей мачехи. Фамилию отца из-за накипевшей горечи и опасения, что после случая на сборном пункте могут разыскивать, называть не стал. Тут же добавил: Александр и… замолчал в растерянности и по привычке (переводчики и добровольцы по обычаю немцев отчества не называли).
-
А отца-то как звали? Забыл? – насмешливо уставился на меня писарь.
-
Иван Юрьевич, — тихо сказал я, спохватившись.
В суете и гаме, писарь, повторив «Юрьевич», на что я не среагировал, да и не до этого было, бросил: «проходи!».
Так я отчасти подсознательно, отчасти случайно превратился в Мироненко Александра Юрьевича. По списку нас построили, погрузили в вагоны и отправили в Первомайск, затем в запасной полк в Одессу. Было это в конце августа 1944 года, когда мне исполнилось 19 лет и два месяца.
Отныне я негласно порвал с прошлым, но оно тяготило. Появлялась мысль: сообщить всё органам? Пощадят? Но разве поверят? Хорошо, если пошлют в штрафной батальон, а то, не вдаваясь в подробности, поставят к стенке. А ведь самостоятельная жизнь только начинается, хотелось жить, жить!
Легко сказать – признаться. Было много «но». В запасном полку на нарах ночью плакал мужчина. Потрясающее зрелище. Оказывается, он из немцев, и, хотя он ни в чём не был замешан, ему не верили. Требовали каких-то признаний, вызывая после отбоя на допросы. Многие военнослужащие, находившиеся в плену или окружении, уходили на «подробные допросы» и подчас не возвращались. Что могло ожидать меня?
Пробыв некоторое время в полку и даже писарем в штабе (на мальчишку не обращали, видимо, внимания), я просился на фронт и кажется, в ноябре 1944 года убыл с маршевой ротой в Польшу на пополнение 191 стрелковой дивизии 2-го Белорусского фронта. Попал в школу младших командиров, воевал в качестве командира миномётного расчёта, помкомвзвода, был командиром стрелкового отделения. Прошёл Польшу, Восточную Пруссию, был под Берлином. Неоднократно ходил в разведку в немецкий тыл за «языками», за что награждён медалью «за отвагу». Получил так же медали за освобождение Варшавы, за взятие Кенигсберга и Берлина, ряд благодарностей. Служил, не преувеличивая, честно, находился на хорошем счету, писал в дивизионную газету, выпускал боевые листки и т.п. Войну закончил в звании гвардии старшины.»
Зы: Замечу — человек сам себя наказал — он всю жизнь прожил в ожидании ареста. Что и случилось в 1975 году. Расстрелян в 1976.
А книг по этому делу написано аж три штуки. Какая из них наша — не знаю. Но буду искать. Мне не нужен так и не полученный гонорар, не нужно указание авторства, к тому же книгу я не закончил. Я хочу лишь увидеть окончательный вариант.